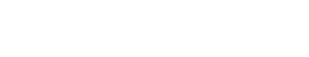
Сайт находится на текущей реконструкции, после завершения всех работ сайт будет открыт.
Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.
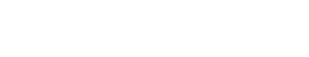
Сайт находится на текущей реконструкции, после завершения всех работ сайт будет открыт.
Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства.